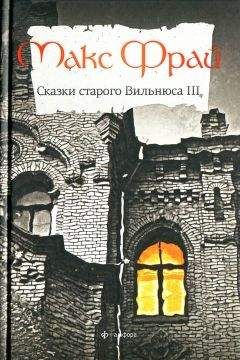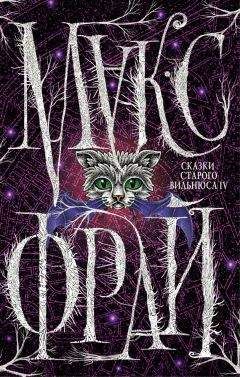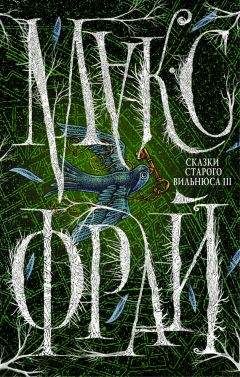Макс Фрай - Сказки старого Вильнюса V
Покончив с сообщениями, она перешла к списку звонков. Очистила его одним нажатием кнопки, ну то есть, строго говоря, двумя, но главное, что рука не дрогнула. Давно было пора это сделать. Сколько можно искать то, чего нет. Вряд ли бедняга Патрик заслужил такой чудесный подарок, как чокнутая жена. Чуть-чуть с прибабахом – это еще куда ни шло.
«Чуть-чуть с прибабахом» – это когда человек сидит совершенно один в ветхой беседке посреди леса и говорит вслух неизвестно кому, непонятно зачем: «Я очень хочу вас отблагодарить».
Ничего особенного тогда, впрочем, не случилось. Даже гром не загремел. А что Доминика внезапно вспомнила фразу: «Кто угодно может быть Барбарой», – ну так ничего удивительного в этом нет. Она и раньше помнила телефонный разговор с незнакомцем практически дословно. Редко получается настолько детально запоминать сны.
Примерно месяц спустя, проводив мужа в командировку, Доминика зашла в книжный магазин и купила там пачку цветной бумаги – самой дешевой, для детских поделок. Дома долго, придирчиво выбирала цвет. Остановилась на зеленом, вернее ярко-салатном. В детстве очень его любила.
Отрезала четвертушку листа, взяла тонкий черный маркер, написала крупными печатными буквами первое, что пришло в голову: «Заморозки повредили цветам? Не застегиваются любимые джинсы? Давно не видели моря? Смерть неизбежна? Позвоните Барбаре!» И, замешкавшись буквально на секунду, добавила свой телефонный номер. Чего уж там, пусть звонят.
Объявление оставила в новом кафе на Швенто Микалояус, куда прежде не заходила. Незаметно спрятала среди рекламных листовок. Никто вроде бы не увидел, как она это делала. А даже если увидел, что с того.
Домой не шла, летела на невидимых крыльях. Твердо знала, что сделала глупость, от которой не будет толку, и хорошо еще если никакого вреда. Но чувствовала при этом радость и почти эйфорическое облегчение. Как будто наконец-то, чуть ли не впервые в жизни поступила как надо. Сделала именно то, для чего родилась.
Хотя, конечно, ясно, что человек не рождается для чего-то одного. Всегда для множества дел. Но охватившего Доминику бесконечного, несоразмерного с масштабами нелепой выходки счастья это понимание совершенно не отменяло.
Телефон зазвонил примерно в половине второго ночи. Доминика еще не спала, только собиралась. Сразу подумала, что это Патрик, с которым буквально только что отлично поговорили в скайпе. Наверное забыл сказать что-нибудь важное, или просто решил пожелать доброй ночи, а компьютер она уже выключила, вот и пришлось звонить.
Но нет, звонили с какого-то незнакомого номера. Доминика сперва сказала: «Слушаю», – и только потом вспомнила про свое зеленое объявление. Неужели?..
– Вы и есть Барбара? – взволнованно спросил высокий, не то женский, не то мальчишеский голос.
– Да, сегодня Барбара – я, – ответила Доминика. – Рассказывайте, что у вас пошло не так.
Переулок Шилтадарже
(Šiltadaržio skg.)
Это делается так
Шли по бульвару, нашли на снегу веревку, ты потянул, мне пришлось помогать. Вместе тянули, руки содрали в кровь, но не сдавались. Вытащили в итоге три прошлогодних дня, хороших, но очень дождливых, чей-то забытый сон, два обещания, рваный крылатый сапог, старую черепаху с вмятинами на панцире, такими глубокими, словно по ней топтались слоны.
Мартинас перечитал написанное, остался смутно недоволен: чего-то явно не хватает. Понять бы еще, чего.
Захотел пить, потянулся за лимонадом; откупоривая бутылку, был неловок, оцарапался острым краем металлической пробки. Поморщился, но тут же просиял – ну да! Отодвинул бутылку в сторону, дописал: «Ладонь и сейчас саднит».
Аккуратно вырвал страницу из блокнота, сложил ее вчетверо, сунул в карман, а потом долго пил кислый ревеневый лимонад, смотрел сквозь толстое бутылочное стекло на низкое предвечернее солнце, безуспешно пытался сфотографировать это зрелище телефоном, радовался каждому слабому порыву теплого ветра, лениво раздумывал, что бы такого интересного устроить на выходных, словом, честно исполнял летний долг всякого горожанина – быть почти, непременно с какой-нибудь незначительной оговоркой счастливым, временно праздным, немного чересчур мечтательным и внимательным к бессмысленным мелочам.
Наконец поднялся и пошел домой. Долгим кружным путем, иначе зачем вообще нужно лето. Сперва по проспекту Гедиминаса до Кафедры, пересек площадь, хотел было свернуть на Пилес, но в последний момент передумал, прошел еще немного и нырнул в узкий переулок Шилтадарже, давно там не ходил. В переулке было безлюдно, то есть вообще никого, ни одной живой души. Ну и отлично, почему бы не здесь. Зачем ждать ночи.
Достал из кармана сложенный вчетверо листок, из другого зажигалку, замешкался, вспоминая написанное: точно годится? Но перечитывать не стал, чиркнул, поджег, тонкая бумага вспыхнула и буквально за секунду сгорела, вконец обленившийся летний ветер по такому случаю приободрился, подхватил обугленные клочки, закружил их, унес.
Хорошо.
* * *– В этом доме, – говорит Люси, – жил художник по имени Пауль Петке. Вроде бы его родители были эстонцы с немецкими корнями; впрочем, это совершенно неважно. Сам Пауль Петке родился в Вильнюсе и прожил здесь всю жизнь.
– Известный художник? – смущенным дуэтом спрашивают экскурсанты. Им немного неловко за собственное невежество, но все равно спрашивают, молодцы.
– Нет, – улыбается Люси. – На самом деле почти никому неизвестный, только горстке любителей вроде меня. Пауль Петке всю жизнь проработал инженером на «Эльфе»[23], а когда вышел на пенсию, внезапно стал рисовать. В основном, городские пейзажи. Ни выставлять, ни продавать свои картины он даже не пытался, зато охотно дарил их друзьям, знакомым и вообще всем желающим. В частности, детям, случайно заглянувшим в его окна на первом этаже. А там было на что посмотреть. Такие фантастически яркие краски! На его картинах Вильнюс выглядел роскошным южным приморским городом, в подворотнях расцветали магнолии и акации, бульвары пестрели полосатыми тентами летних кафе, где праздно нежились загорелые дамы и кавалеры, но главное – небо. Наше скромное северное небо у Пауля Петке всегда становилось ярко-синим. Или угольно-черным, когда он рисовал ночь.
– Но оно именно такое и есть! Вот прямо сейчас ярко-синее, – говорит Марина, задрав голову вверх. – А вчера ночью было чернющее, как над причерноморской степью. И россыпи ярких звезд. С нашим, питерским, вообще не сравнить.
– И кстати, ваш Вильнюс действительно похож на южный город, – добавляет ее муж, кажется, Михаил. Или Николай. Люси почему-то с трудом запоминает имена. Что для обеих ее профессий крайне неудобно: и к студентам, и к экскурсантам порой приходится обращаться по имени. Она даже шпаргалки иногда пишет и тайком подглядывает, кого как звать. Но сегодня как раз не написала.
– Просто Италия какая-то тут у вас, – говорит тем временем Николай-Михаил. – Летних кафе в центре больше, чем жилых домов, и все до отказа забиты загорелой расслабленной публикой. И морем пахнет, причем не нашим, Балтийским, а теплым, южным, все время кажется, что за ближайшим поворотом наконец найдется дорога на пляж. И белых акаций, кстати, полно. Некоторые еще доцветают.
– Ну да. А приехали бы вы весной – увидели бы, что у нас и магнолии в садах цветут, – кивает Люси. И после паузы добавляет: – Теперь-то, конечно, все есть!
– Теперь? – переспрашивает Марина. – А раньше, что ли, не было?
– Можно и так сказать, – меланхолично соглашается Люси. И, вопреки своему обыкновению, умолкает. Не все можно объяснить. Да и надо ли.
– Что касается художника Пауля Петке, – наконец говорит она, – с ним связана одна малоизвестная, но чрезвычайно любопытная городская легенда. Рассказывают, что в ту ночь, когда он умер, то есть, лет восемь назад – или уже девять? Боже, как же время летит! – все его картины исчезли. То есть рамы-то остались на месте, но в них – чистые холсты. Хочется сказать, белоснежные, однако врать не стану, изрядно посеревшие от времени. Но еще вполне пригодные для работы. Лично я на своем нарисовала натюрморт… что-то вроде условного натюрморта. Художник я, прямо скажем, хуже, чем просто никакой. Но этот внезапно опустевший холст меня чрезвычайно нервировал. А выбросить рука не поднималась. Пришлось явить миру стихийный абстрактный экспрессионизм. Мир, к счастью, как-то пережил это тяжелое потрясение.
Парочка экскурсантов встревоженно переглядывается.
– То есть у вас была картина этого художника? – наконец спрашивает Михаил-Николай.
– И она действительно исчезла? – подхватывает его жена.
– Совершенно верно, была, исчезла, – невозмутимо кивает Люси. – Необъяснимый и чрезвычайно досадный факт! Счастье, что я получила ее в подарок, а не купила на аукционе Сотбис[24] за сто миллионов, вот тогда было бы совсем обидно. Беда с этими художниками, вечно не знаешь, чего от них ждать.